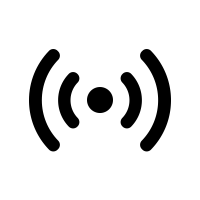Фильм о том, что Бог есть
30.01.2020, 01:57
 707
707
 707
707
Интервью с Павлом Лунгиным о фильме "Остров"
"Остров" Павла Лунгина действительно стал событием в отечественном, а пожалуй, и в мировом кинематографе, прорывом, приближением к тому, о чем и говорить, и писать, и тем более снимать очень нелегко. Приближением к пониманию того таинства, которым всегда являются взаимоотношения человеческой души с Богом. Стал фильм событием и в жизни самого Павла Семеновича, одного из наиболее талантливых и вместе с тем много работающих российских кинорежиссеров. Об "Острове", о причинах, которые побудили его обратиться к этой теме, о том, что волнует, что заставляет задумываться и всматриваться в самого себя, с Павлом Лунгиным беседует главный редактор журнала "Саратовские Епархиальные Ведомости" игумен Нектарий (Морозов). — Павел Семенович, известно, что Вы не были уверены в прокатной судьбе этой картины. Она, как принято говорить, неформатна, она очень сильно отличается от всего, как Вы выразились где-то, "отечественного кинопотока". То есть присутствовал определенный финансовый риск. И все же Вы за нее взялись. Почему?
— Павел Семенович, известно, что Вы не были уверены в прокатной судьбе этой картины. Она, как принято говорить, неформатна, она очень сильно отличается от всего, как Вы выразились где-то, "отечественного кинопотока". То есть присутствовал определенный финансовый риск. И все же Вы за нее взялись. Почему?— Ну, честно говоря, это был не мой риск, мне деньги на этот фильм дало РТР, за что ему глубокая благодарность, потому что они и сами не были уверены, что картина окажется коммерчески успешной. Никто, кстати, не может сказать этого и сейчас. Она встречает практически везде очень доброе отношение, о ней много говорят, но пойдет ли на нее массовый зритель, люди в возрасте от 14 до 20 лет, мы не знаем. А взялся я за нее, конечно, по велению сердца, скорее, даже по внутренней необходимости заговорить на эту тему. Это очень непростая вещь... Все определяется контекстом, и сложно прийти, скажем, на дискотеку и запеть там арию, понимаете? Не потому, что это нереально, это реально, но сначала человек чувствует себя глупым, чувствует себя неуместным со своими мыслями и ощущениями. И вот когда возникла вдруг такая возможность — с появлением сценария, с появлением поддержки от РТР, я, конечно, схватился за нее сразу.
— Можно в нескольких словах рассказать о том, как этот сценарий нашел Вас и как Вы в этом сценарии увидели основу для того фильма, который получился в итоге?
— Случайно, это произошло с легкой руки Юрия Арабова, замечательного сценариста, поэта, писателя, который для Сокурова много пишет, преподает во ВГИКе. Когда мы с ним работали над "Мертвыми душами", он познакомил меня со своими учениками, и одним из его выпускников был Дмитрий Соболев, который потом показал мне сценарий, который, конечно, удивил меня необыкновенно...
— Он верующий человек, я имею в виду Дмитрия Соболева?
— Я не уверен в этом, не знаю, может быть. Первоначально сценарий был написан отчасти как некая бытовая вещь.
— Вы его сильно переработали?
— Я не могу сказать, что он был сильно переработан, у него просто была слишком большая "немецкая" часть, для меня бессмысленная, и она была написана на бытовом каком-то уровне. В конечном итоге мы ее сократили.
— Но, наверное, можно сказать, что Вы придали этому фильму иное измерение, перевели в другую плоскость?
— Мне так показалось, по крайней мере. Вообще, мир слова и мир образа зрительного — это два разных подхода к правде. Вот эти острова, вода эта, постоянный поиск послушания, мостки, весь фильм эта тачка, которая туда-сюда движется... В кино все совсем иначе воспринимается, нежели на бумаге.
— Вы говорите, что "Остров" тепло встречают. А какова вообще его судьба на сегодняшний день, как она складывается с того момента, как работа над ним была завершена?
— Он закрывал Венецианский фестиваль, демонстрировался на крупнейшем фестивале Северной и Южной Америки в Торонто, теперь он едет по множеству небольших фестивалей, которые этот фильм хотят показать. Сейчас мы отправляемся в Ригу на христианский фестиваль, в Ватикане 14 ноября он будет показываться. На Санденсе желают его видеть, это такой, знаете, фестиваль нового, неформального кино, в США проводится.
Везде он вызывает большой интерес. Мне кажется, что и на Западе люди сейчас осознают уже эту тупиковость какую-то существования, я не знаю, как сказать. бессмысленность ужасную. Есть времена, когда это чувство легче, а есть времена, когда оно тяжелее. Сейчас так явно, по моему ощущению, чувство бесплодности существования земного, оно очень жестоко открылось, обострилось до предела. Вдруг оказалось, что вообще никаких нет ценностей, кроме денег и успеха материального. Раньше были какие-то противостояния, была борьба систем, борьба эпох, борьба идей, возникали новые идеи... И вдруг — идей нет, противостояния нет, и вообще вроде бы ничего нет, кроме рентабельности каждого отдельного человека. Это чувство, что ты должен быть рентабельным, всегда работать на деньги и успех, оно, наверное, сводит с ума. Меня, во всяком случае, сводит.

— Церковь, отделенная от государства, но не отделенная от народа, за последние 15-17 лет вновь прочно вошла в жизнь общества. Естественно, что ее невозможно игнорировать — как данность, как бы к этой данности не относились. А относятся очень по-разному. И, конечно, свое выражение это различие находит в публикациях в прессе, в современной литературе, кинематографе.
А Ваше отношение к Церкви — каково оно? Какое место занимает она в Вашей жизни, можете ли Вы сами для себя определить ее назначение?
— Хотя я и православный человек, крещеный, однако на сегодняшний день невоцерковленный. Но я не понимаю, почему Церковь может вызывать ожесточение и озлобление, мне кажется, что Церковь дает человеку огромную внутреннюю свободу.
Вообще, я человек простой, я, так сказать, мыслю зрительными образами, эмоциями, чувствами. Думаю, что я знаю, например, где правда, где неправда и где хорошо, а где плохо, и мне кажется, что меня ведет это чувство. А о назначении Церкви я не думаю, потому что в мире, где я родился, где я жил, в моей жизни всегда была Церковь. Знаете, мне вопрос о том, зачем нужна Церковь, немножко напоминает вопрос в учебниках физики: а что будет, если Солнце вдруг погаснет или Земля перестанет вращаться?
Вся культура, в которой мы живем, это культура, бесспорно, христианская: художественная, интеллектуальная, материальная, вещественная — чего ни коснись. И вне луча христианского ощущения мира через любовь, вину, вне осознания важности и в то же время нашей слабости в этом мире я вообще не представляю себе человеческой жизни.
А что касается чьего-то ожесточения или недоверия к Церкви... Я думаю, что у людей просто выработалось такое опасливое ощущение по отношению к навязыванию им различных тотальных систем, они устали от этого. Я слышал, конечно, споры по поводу введения основ православной культуры, считаю, что это было бы справедливо. Но люди боятся очень, вы знаете, чего боятся? Все боятся наших общих пороков, кампанейщины, некомпетентности. Ведь у нас какой-то советский принцип кампанейщины так и остался. Вчера заговорили о том, что люди умирают от дурной водки, сегодня сразу чудо, милиция его явила: обнаружила вдруг пять тысяч каких-то подпольных заводов. Где они были раньше? Понимаете, что я хочу сказать? Это, я думаю, и вызывает у людей опаску, когда государство прикасается к Церкви, потому что у нас совсем не верят государству и хотели бы видеть Церковь в неприкосновенности от этой большой коррумпированной системы, я не знаю, правильно ли я выразился... У людей возникает страх перед Церковью и недоверие по отношению к ней, когда появляется ощущение, что она соединяется с государством. Ведь в отношении власти ни у кого сейчас нет уже иллюзий. А многим людям так хочется, чтобы, по крайней мере, Церковь всегда оставалась тем местом, куда человек, обиженный, в том числе и государством, может прийти и получить утешение.
— Павел Семенович, насколько известно, Вы готовились к съемкам достаточно серьезно: встречались со священниками, задавали вопросы...
— Я, как слепая рыба, тыкался и туда, и сюда, больше всего надеясь на то, что что-то придет, потому что нельзя, не получается объяснить словами самые главные вещи. Молодой монах из Донского монастыря, отец Косьма, хорошо знакомый с Петром Мамоновым, много мне рассказывал. Мы ездили с отцом Косьмой в Лавру, он познакомил меня там с двумя старцами. Один был замечательный такой, легкий, как перышко, уже старенький. Я хотя бы немножко прикоснулся к этому быту, побыл в кельях. Отец Косьма иногда приезжал к нам на съемки, консультировал нас, по-дружески, неофициально, просто как друг Петра Мамонова. Потому что тот волновался ужасно, исполняя эту роль, его терзали сомнения и чувство... как сказать... правды, истинности... может ли он на себя взять такое? Его надо было немножко утешать, успокаивать, поддерживать.
 А потом, я старался не говорить о том, чего не знаю. Этот монастырь, скорее, скит — потерянное место, где мы не видим ни большого количества монахов, ни грандиозных зданий. Здесь в центре всего три судьбы, три пути к Богу, три личности разные, которые живут на этих камнях, поросших мхом. Я, честно говоря, совсем не старался сделать фильм о Церкви как таковой, я хотел сделать фильм о вере, о грехе, пытался сделать фильм о стыде, о раскаянии, о том, что для меня является главными человеческими проявлениями. Конечно, если бы надо было снять документальный фильм о монастыре, я бы тогда совсем по-другому подошел, а здесь просто надо было вместе с ними улететь...
А потом, я старался не говорить о том, чего не знаю. Этот монастырь, скорее, скит — потерянное место, где мы не видим ни большого количества монахов, ни грандиозных зданий. Здесь в центре всего три судьбы, три пути к Богу, три личности разные, которые живут на этих камнях, поросших мхом. Я, честно говоря, совсем не старался сделать фильм о Церкви как таковой, я хотел сделать фильм о вере, о грехе, пытался сделать фильм о стыде, о раскаянии, о том, что для меня является главными человеческими проявлениями. Конечно, если бы надо было снять документальный фильм о монастыре, я бы тогда совсем по-другому подошел, а здесь просто надо было вместе с ними улететь...— Если внимательно просмотреть публикации об "Острове", то можно увидеть, как по-разному был понят этот фильм даже самими кинокритиками, для кого-то он вообще о том, кому служить: "Христу или Мамонову". А Вы сами сказали в одном интервью очень емко: "Это просто фильм о том, что Бог есть. Приходит время, когда это становится важным". Важным для кого: для нашего народа, для зрителей, для Вас лично? И что это за время?
— Я могу признаться, что уже несколько лет не читаю рецензий вообще, потому что это по большому счету несущественно. Становясь публичным человеком, ты таким образом как бы подставляешь щеку, и любой, кто идет мимо, может тебя шлепнуть, может ударить, а может и... Да что там говорить! Фильм у некоторых людей действительно вызывает необъяснимую ярость. Но это значит, что он работает! Мне кажется, что самое ужасное, когда 99 процентов фильмов люди смотрят вообще без злости и без одобрения, они просто куда-то падают, проваливаются в небытие.
А, отвечая на вопрос, для кого это важно... Для всех, наверное, важно, и для меня важно. Мне хотелось этим чувством, которое я так остро пережил, поделиться с другими, сказать об этом. Ведь человек, который делает фильм, он через себя все пропускает, это словно какую-то вакцину себе привить — ты рассказываешь о том, что проходишь сам, в одной степени или в другой степени.
Мы всегда так настаиваем на особенности России, меня это слово и бесит, и в то же время я не могу не говорить об этом. Я жил на Западе, во Франции, там совершенно иное отношение к материальному миру, они живут скорее в истории. Запад — это огромный такой блошиный рынок, в хорошем смысле. Все, что прошло, мгновенно превращается в историю, история превращается в предметы, в истории эти предметы сохраняются, не уничтожаются, продаются, покупаются... Там как бы материализованное время видишь, а у нас, наоборот, видишь только горение идей, и удивительно: вещи исчезают, предметы пропадают куда-то. Снимая фильм, я не мог найти стаканов, чашек 80-90-х годов, книг, одежды. Точно это все, словно вещественные доказательства, куда-то уходит, уничтожается. Поэтому для России, для этого пространства, которое должно жить идеями, спорами, так вот, вдруг, оказаться на плоской сковороде чисто телевизионно-материального существования, мне кажется, очень тяжело — а именно это сейчас и происходит. И, думаю, что очень многие люди ощущают эту тяжесть. Поэтому надо говорить о том, что есть другая жизнь и есть вера, есть вообще мир другой. Знаете, я ненавижу слово "художник", это бессмысленное слово, но все равно это кто-то, кто обречен на повышенную реактивность, обречен чувствовать более остро то, что происходит вокруг него. Вот Петя Мамонов один из тех, кто чрезмерно, до уровня безумия реагирует на все, но его интуиции ведут его дальше. И мои интуиции тоже меня ведут.
 — Павел Семенович, а когда Вы сами пришли к мысли о том, что Бог есть, и что это было за время лично для Вас? Ведь кто-то рождается с этой мыслью, к кому-то она приходит неожиданно, кого-то что-то приводит к этой мысли... Это, конечно, всегда очень лично, но, с другой стороны, для людей важен ответ конкретного человека на этот личный вопрос, потому что что-то происходит и в их душе, и порой сказанное слово какие-то процессы в их душе, может быть, замершие, заставляет стронуться с места.
— Павел Семенович, а когда Вы сами пришли к мысли о том, что Бог есть, и что это было за время лично для Вас? Ведь кто-то рождается с этой мыслью, к кому-то она приходит неожиданно, кого-то что-то приводит к этой мысли... Это, конечно, всегда очень лично, но, с другой стороны, для людей важен ответ конкретного человека на этот личный вопрос, потому что что-то происходит и в их душе, и порой сказанное слово какие-то процессы в их душе, может быть, замершие, заставляет стронуться с места.— У меня никогда не было чувства, что нет Бога. Может быть, я всегда жил, как хулиган, плохой школьник, убегающий с уроков, но у меня никогда не было чувства, что все дозволено, у меня никогда не было чувства, что над нами никого нет, у меня никогда не было чувства, что жизнь кончается со смертью. В этом смысле я, наверное, близок к отцу Филарету, к киногерою Сухорукова, с его детским восприятием веры: он не испытывает мук, он — как ребенок. Герой Дюжева другой. Он идет через суровое "офицерское" карьерное служение, карьерное в хорошем смысле, он ступень за ступенью думает подниматься все выше и выше в иерархии монастыря, как бы пробивается наверх. Но при этом он чувствует, что в духовном отношении этого движения вперед, вверх не происходит, и это заставляет его страдать. А герой Мамонова идет через стыд, через муку, через жгущую его боль, непомерную такую, через чувство стыда, которое, конечно, бывает у каждого человека, просто его все глушат.
Но отец Филарет, если возвращаться к нему,— это образ художника с кисточкой, он пишет, реставрирует иконы, он живет в этом мире, не страдая, а скорее, радуясь ему. Вот и у меня всегда было очень сильное чувство радости от этого Божьего мира, всегда было чувство полноты. Может быть, в те моменты, когда я начал чувствовать то, что называется богооставленностью, чувствовать эту ужасающую пустоту,— тогда у меня возникло ощущение такого острого возвращения, что ли. Острое чувство того, что Бог не только есть, но и лично мне Он очень нужен.
— Для верующего человека нет ничего случайного, он знает, что миром правит Промысл Божий. И этот фильм не случаен. Художник — человек особой судьбы. Посредством его таланта в мир являются новые вещи, добро или зло. И он может показать и то, и другое так, что люди полюбят — кто-то полюбит добро, а кто-то зло. И в этом его ответственность. Но ведь он еще и просто человек, и у него есть душа, которая имеет бесконечную ценность, которая дорога для Бога. И потому все, что он делает для других, для своей аудитории, касается прежде всего его самого. И в Вашем случае это так. Господь подал Вам мысль об этом фильме, и Вы на нее откликнулись.
С каждым, кто посмотрит "Остров" и вдумается в него, что-то произойдет, потому что нельзя остаться к нему равнодушным. Но Вы-то ведь этот фильм снимали... И как-то сами даже говорили о том, что фильм перевернул Вас, сделал другим. Что-то на самом деле изменилось в Вашей жизни?
— Не знаю, прошло слишком мало времени. Собственно говоря, были и путь к этому фильму, то, что меня к нему привело, и сам фильм. Когда мы снимали его, это была совершенно особенная атмосфера, мы жили там очень обособленно, жили одни, своей маленькой группой. Каждый день мы вместе с героем фильма шли на мостки, в дождь, в снег, в ветер, и снова и снова проделывали его путь вместе с ним с этой тачкой. И чувство вечности там очень сильное, на Севере как-то особенно все чувствуешь — там весь мир, как церковь. Все волшебное — небо, эти острова, кажется, что все это звучит, как храм. И группа вдруг тесно сплотилась в это тяжелое физически, по работе, и светлое вместе с тем для людей время. И мы вспоминаем об этом с Петром Мамоновым, и вот Витя Сухоруков мне вчера звонил.
— Вы выбрали на главную роль в своем фильме Петра Мамонова, человека поразительно яркого и неординарного. Причем неординарного не столько в силу присущей ему оригинальной исполнительской манеры, сколько ввиду той перемены, которая произошла с ним самим. Вы очень хорошо сказали об этом где-то: "В каком-то смысле это и его жизнь. Он сам из скандального музыканта стал верующим человеком, который вот уже 11 лет живет в деревне". Но к этому Вы добавили и другие слова: "Карьера моя началась с картины с Мамоновым — "Такси-блюз", и сейчас, я считаю, с ним же она повернулась совсем в другую сторону". Петр Мамонов действительно является глубоко верующим, воцерковленным человеком, начитанным в святых отцах... Вы имеете в виду, говоря о себе, поворот именно в эту сторону?
— Наверное, еще нет. Я очень много времени пребывал в безделье, в гедонизме и в наслаждении жизнью, самыми разными ее радостями, и сейчас мне кажется, что сегодня моя задача — это как можно больше работать. Я работаю непрерывно, работаю примерно так же, как этот монах (герой Петра Мамонова, монастырский истопник.— СЕВ). Я как будто приковал себя к тачке своего дела. Пока что меня переполняют возможность и желание работать, и я живу в этом. Я понимаю, что тут есть, наверное, невротизм, мне иногда кажется, что это неправильное преобладание, засилье работы всю жизнь у современного человека, и я тоже иду у этого на поводу. Но и это начинаешь понемногу осознавать как грех. Получается, что ставишь себя в такие рамки, что нет почти времени думать о самом главном, чутко реагировать на происходящие в глубине души процессы, и реагируешь только на что-то конкретное. Я начал об этом сейчас думать очень серьезно, потому что чувствую, что через работу также можно уйти от себя, а не прийти к себе.
Я на самом деле максималист. Я внешне не похож с Мамоновым, но это не случайно, что мы с ним в такие поворотные моменты оказываемся рядом, потому что во мне есть, пусть в мягкой форме, но тот же безумный максимализм, что и у него. Я думаю, что если я начну, то буду идти уже до конца.
— Начнете что?
— Начну воцерковляться, входить в церковную жизнь. Но пока еще я балансирую в этой жизни и я работаю пока.
— Начну воцерковляться, входить в церковную жизнь. Но пока еще я балансирую в этой жизни и я работаю пока.
— Когда—то давно, лет, наверное, пятнадцать тому назад, покойный теперь уже Леонид Филатов в одном интервью выразил убежденность в том, что талант тяготится своими грехами — это и есть святость. Вряд ли можно назвать это точным определением святости, скорее, это то, что ведет к ней. Но слова эти очевидно были выстраданы, вышли из сердца. И они очень актуальны сегодня: для современного мира такое понятие, как грех, совершенно утрачивает смысл, все переходит в иную плоскость: удачно или неудачно, под волной или на гребне ее. И если ты победитель, если ты на волне, то и грехи твои превращаются в славу. А Вы обращаетесь к теме греха, к теме покаяния... Это близкая тема для Вас?
— Я много думал о том, что объединяет мои фильмы. На самом деле, начиная с "Такси-блюза", они все — если откинуть сюжеты разнообразные и прочее,— все посвящены одной теме: тому, как пробуждается в человеке душа. Для меня это самое большое чудо, когда в человеке — жестоком, дурном, тупом, как кажется нам, или, наоборот, цинично лживом,— вдруг просыпается, начинает биться в нем, словно иное какое-то существо, его душа. Что это вообще за способность человека совершать поступки во вред своей непосредственной, сиюминутной выгоде? Это свойство человека, мне кажется, действительно свидетельствует о высших ценностях и о Высшей Силе, Которая касается его сердца, потому что рационального объяснения этому нет. И я всегда ценил это в себе и в своих близких. И друзей своих выбирал как-то интуитивно чисто, даже не думая еще о Церкви, вот по этому — по возможности так поступать.
Да, все мои фильмы именно о том, как просыпается в человеке душа и он сам мучается, удивляется, бьется с этим, как таксист в "Такси-блюзе", бьется с тем добром, которое в нем есть. В этом смысле я иду своим собственным путем, занимаюсь тем, что меня всегда удивляло, восхищало, о чем я думаю постоянно. И в этом смысле "Остров" — это просто, как сказать... Знаете, когда перескакиваешь на другую ступень какую-то? Но говоришь о том же, снова и снова о том же.
— Павел Семенович, как-то Вы еще сказали, что "Остров" — фильм о вере истинной и вере мнимой. Что лично для Вас вера истинная и вера мнимая?
— Ну что такое вера мнимая, мы с вами знаем. Это самодовольство, мы все, наверное, встречались с христианами, при общении с которыми возникает такое чувство, что они душу еще на земле точно в швейцарский банк положили, что у них теперь вообще все хорошо, и все. Это люди, которые воспринимают веру, воцерковление как некую заслугу, как медаль, как достоинство, оберегающее их, гарантирующее заранее прощение за все остальное. Для меня это, конечно, фарисеи настоящие... Я понимаю Бердяева, его фразу, которая меня поразила: "Мне кажется, что мучающийся атеист ближе к Богу, чем самодовольный христианин". В этом отношении для меня показатель истинной веры — это, прежде всего, внутренняя оголенность и живая душа. Видишь, чувствуешь, что живая душа бьется в человеке, и мне думается, что это главное.
Я как-то размышлял, пытался себе объяснить, что такое человек. Вообще человек... Человек — это тот, кто имеет стыд и чувство греха. Вот! Это самое основное, что отличает его от животного. И "Остров" весь об этом.
— Мне попадались прежде Ваши слова о том, что засилье индивидуализма, доведение до логического конца идеи личной свободы привело к триумфу эгоизма, и в результате мы вынуждены вернуться к, казалось бы, решенным дилеммам. О том, что люди не могут существовать только во имя материальных ценностей. Вряд ли найдется верующий человек, который не согласился бы с этими утверждениями. Но не ему они и адресованы. Проповедь Православия обращена на протяжении двух тысячелетий ко всему миру. Однако сегодня мы вошли в такую стадию его существования, когда многие люди уже не могут слышать слово о Боге и о вере, мы словно говорим на разных языках. И, наверное, тем важнее роль тех людей искусства, сердца которых уже коснулся Господь, в душе которых затеплилась вера. Потому что у Вас есть возможность не проповедовать, не миссионерствовать, но просто открывать перед потерявшим себя человеком XXI века то, что помогает ему вглядеться в самого себя, войти в свое сердце, где он очень, очень давно не был. И там, в этом сердце, произойдет самое главное: встреча человека с самим собой, а потом с Богом. Соответствует ли такой взгляд на призвание верующего художника Вашим представлениям или расходится с ними?
— Да, конечно, соответствует. Это замечательное определение, тут ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Мне тоже кажется, что любой человек, который прежде всего заглянет в себя — искренне, до конца — неизбежно придет к Богу и неизбежно будет свидетельствовать о добре и о Боге. И потому говорить, проповедовать сегодня друг другу и миру отсутствие любви и спасения — это просто гибельно, неправильно.
— "Из всех искусств важнейшим является кино". Так или примерно так сказал когда-то Ленин. И эти слова человека, ставшего злым гением России, по-своему очень точны, так же как указание на необходимость захвата почты, телеграфа и т. п. Сегодня кинематограф оказывает колоссальное влияние на сознание современного человека, во многом — формирует его. При том кинематограф интернационален, всепроникающ. Что о положительных и об отрицательных тенденциях в мировом киноискусстве можете сказать Вы?
 — Народ выражает, как-то воссоздает себя... Если прежде люди выражали себя через литературу, в Средневековье — через архитектуру, которая была явно главным и символизировала некое упорядочение мира, то сейчас человек выражает себя, как бы проживает свою жизнь и историю через кино. Я иногда думаю о том, что, например, вся история Америки — это кино, там вообще нет никакой правды: приезжали люди и придумывали историю. Мне порой кажется, что там никогда не было ни ковбоев, ни индейцев, что все выдумано кем-то — и все.
— Народ выражает, как-то воссоздает себя... Если прежде люди выражали себя через литературу, в Средневековье — через архитектуру, которая была явно главным и символизировала некое упорядочение мира, то сейчас человек выражает себя, как бы проживает свою жизнь и историю через кино. Я иногда думаю о том, что, например, вся история Америки — это кино, там вообще нет никакой правды: приезжали люди и придумывали историю. Мне порой кажется, что там никогда не было ни ковбоев, ни индейцев, что все выдумано кем-то — и все.Пока что кино идет по легкому пути: развлечения, обращения к низкому в человеке. Может быть, наивно то, о чем я говорю, но, к сожалению, есть некоторая изначальная безнравственность капиталистического общества. Она заключается в том, что там надо делать деньги как можно более быстрым и эффективным путем. И выясняется, что в области развлечений низкий путь, путь обращения к низкому в человеке, легкий путь, прямой путь — он эффективен. И меня самого это удивляет, но я вижу достаточно крупных людей в кино- и телепроизводстве, которые сами потребляют совершенно иную культуру, понимаете? Они-то сами читают совсем иные книги, смотрят иные фильмы, но они абсолютно, железно и жестко говорят: "Вот то, что должно приносить деньги, рейтинги, и мы будем делать то, что народ будет "хавать"".
Сегодня действительно очень тяжелый процесс происходит, я к нему болезненно отношусь и практически не включаю телевизор, у меня это все вызывает, как, наверное, у многих уже людей, отторжение. Как это остановить? Я вижу, как меняются крупные фестивали, как меняется их атмосфера, когда радость искусства и все, что с этим связано, отходит на задний план. Кто приехал, кто снялся, какой скандал произошел и так далее — это становится главным наполнением жизни. Не знаю, я думаю, что сейчас очень драматичный период, период идейного упадка, бездуховности, и его надо пережить. Но подумаешь — а ведь были периоды гораздо хуже, в наше время хотя бы не убивают, по крайней мере, не так много убивают, как раньше... Что должен был чувствовать человек в 17-м, в 18-м или в 37-м году? У него вообще могло быть чувство, что мир перевернулся.
Но в каком-то смысле и сейчас тоже произошло некоторое переворачивание мира, когда элита по своей духовной составляющей ниже, чем народ, которым она руководит, когда пытаются приучить людей к этой телевизионной кормушке, и успешно пытаются. Когда можно забивать головы, манипулировать тотально массами и так далее. И потому сегодня все зависит от индивидуальности: чисто системно нас ничего хорошего не ждет. Только путь индивидуальных поступков и подвигов, понимаете? Не бояться быть перпендикулярным к этому течению, не бояться быть смешным, не бояться быть освистанным. Мне кажется, что сейчас можно говорить только о личном принятии решений. Я вот попытался это сделать... Мне было жутко, когда я начинал, потому что кто я, чтобы говорить об этом? И это совсем не вписывается в то, чем сейчас занимаются мои коллеги, режиссеры. Но я сделал этот шаг и испытал радость и облегчение.
«Саратовские Епархиальные Ведомости» № 1 (17), 2006 г.
Беседовал игумен Нектарий (Морозов)
Поделиться: